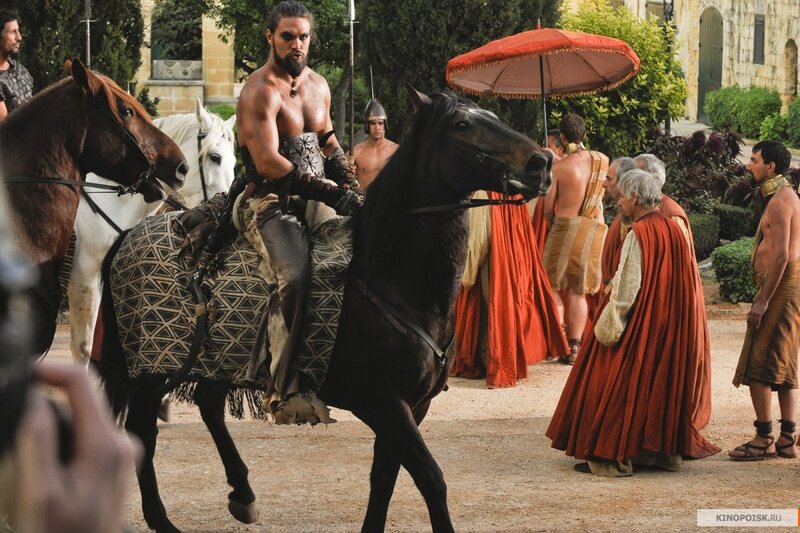"Margaret Beaufort, mother of the Tudor Dynasty - the true story of the "Red Queen" (Elizabeth Norton)

"Elizabeth Woodville, mother of the Princes in the Tower - the true story of Philippa Gregory's The White Queen" (David Baldwin)

"Blood Sisters - the women behind the Wars of the Roses" (Sarah Gristwood)
читать дальше
Хотела разместить здесь полностью разбор акунинского опуса, но текст большой, и из-под "моря" вываливается. Так что вот вам цитаты, а весь разбор заслуживает внимания: http://www.russ.ru/pole/Bol-she-chem-istorik.
Хотя, положа руку на сердце, могу сказать, что большая часть современных опусов тех же англичан по английской истории тоже не выдержали бы критики профессионалов, если даже такой дилетант, как я, видит явные огрехи. Видно, тренд такой нынче пошел, писать немного свои версии истории.
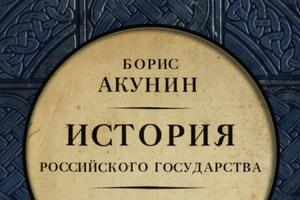
"Не все русославянские колена обитали в лесах, – пишет Акунин чуть дальше, – но все без исключения жили вдоль рек" (с. 24). Эта собственная фраза так увлекла автора, что он мигом вывел из нее теорию перехода славян от "наполовину степного" народа к лесному (с. 23 - 28). Этим переходом Акунин объясняет и особенности национального характера русских ("в том, что мы такие нелегкие, очевидно, виноват все-таки Лес" (с. 28)) и характер взаимоотношений восточнославянских племен с финно-угорскими аборигенами. По его словам, "в отличие от славян, финны не занимались ни земледелием, ни скотоводством", а потому запросто уступали славянам реки, уходя в леса. "Реки финнам были ни к чему, – рассуждает Акунин, – торговли они все равно не вели – не имели излишков... Финнов лес кормил недостаточно сытно, чтобы развивалась культура, но и не настолько впроголодь, чтобы побуждать к уходу с насиженных мест" (с. 32).
читать дальше
Сколь бы странным это ни показалось, но Акунина, выпускника историко-филологического отделения Института стран Азии и Африки, постоянно подводит нехватка общей гуманитарной эрудиции. Так, например, он пишет: "Известно, что быстрее всего развивались народы, которых природа либо щедро облагодетельствовала, либо обделила своими дарами и заставила активно бороться за выживание. На первом этапе истории преимущество получили жители плодородных земель Междуречья и Нила, Эллады и Апеннинского полуострова; на следующем – те племена, кого нужда гнала с насиженных мест" (с. 34).
Не говоря о том, что эта теория Акунина противоречит его же взглядам на зловещую роль леса в истории русского народа и его финно-угорских соседей, отмечу ошибку, которая легко могла бы испортить оценку студенту-историку на экзамене: дело в том, что Греция никогда не была плодородной, и даже в период своего расцвета была вынуждена импортировать зерно.
А уж после утверждения, что "в Европе с античных времен... сложилось стойкое представление о том, что интересы индивидуума являются высшей ценностью; они важнее интересов социума" (с. 508), несчастного студента могли отправить на пересдачу, потому что рассуждать об античности, не имея понятия о роли гражданской общины в жизни грека или римлянина, нельзя.
Акунин старается доказать, что Юрий Долгорукий "не отличался государственной мудростью и полководческими талантами", а его роль в русской истории сильно преувеличена (с. 408, 410). В частности, Акунин сообщает как увлекательную новость, что имя Долгорукого "прославлено в истории и известно всякому современному россиянину благодаря событию, которого, собственно, не было" (с. 408). Посмотрев в школьные учебники, Акунин мог бы убедиться, что современный россиянин и без него знает, что Москва не была основана Долгоруким, а всего лишь была впервые упомянута в контексте его княжения. А ознакомившись с проблемой чуть более подробно, наш автор узнал бы, что связь Долгорукого с градостроительством в нашей историографии не случайна.
Однако Акунин не только не знает советской историографии, но и очень плохо знаком с работами тех немногих дореволюционных авторов, на которых он активно ссылается. Так, по словам Акунина, автор "Повести временных лет" (стойкая убежденность Акунина в том, что ПВЛ – произведение одного автора, не может не вызывать уважения) "запутался в византийской хронологии", отнеся воцарение Михаила III к 6360 (852) году, тогда как Михаил стал базилевсом "не с 852 года, а с 842-го". Дальше, продолжает Акунин, "путаница лишь усугубляется" (с. 125). На самом деле, еще со времен академика А.А.Шахматова известно, что русский летописец не запутался, а стал жертвой путаницы, возникшей в использованном им при работе хронологическом своде, известном как "летописец вскоре патриарха Никифора". Более того, он не "усугубил" путаницу, как почему-то считает Акунин, а наоборот уменьшил ее....
Акунин пишет, что киевский летописец "благочестиво радуется поражению "безъбожных руси"" в походе на Константинополь в 860 году (с. 119). На самом деле летописец ничему не радуется, а просто заимствует описание похода на Царьград из славянского перевода византийской хроники продолжателя Георгия Амартола. Но стоит ли обращать внимание на такие мелочи, если Акунин допускает, что автором приписываемого византийскому императору Маврикию "Стратегикона" может быть и его безымянный "историограф" (sic, с. 68), а хрестоматийного для русской истории автора "De origine actibusque Getarum" Иордана называет Иорданесом, причем дважды (с. 67, 103)!
В одном случае путаница с согласованием времен привела Акунина к неверному, но очень интересному утверждению, за которое я, пожалуй, даже сказал бы автору спасибо. Акунин утверждает, что Чингисхан мечтал о великой державе, где "девушка с золотым блюдом в руках сможет пройти от океана до океана, не опасаясь ни за золото, ни за свою честь" (с. 38).
Разумеется, ничего подобного Чингисхан не говорил... этот самый распространенный в современном русском узусе вариант данной "цитаты" появился на так давно, после того как был использован в рекламе выпущенной в 2007 году компьютерной игры "Монгол: Война Чингисхана", и сразу же наводнил Рунет. Фраза эта восходит к двум прототипам: в одном те же слова даются без привязки к Чингисхану, в другом из них речь идет о Чингисхане, однако в тексте уже не говорится о смелых девушках, не опасающихся ни за блюдо, ни за честь.
Нельзя не остановиться и на стилистических особенностях акунинского текста. Российский литератор, обращаясь к истории, берет на себя большую ответственность: ему волей-неволей приходится соизмерять себя с Карамзиным, Пушкиным, Львом Толстым или, например, А.К.Толстым, который умел в нескольких строфах выразить характерные особенности истории от Рюрика до наших дней. На этом фоне суждения Акунина выглядят крайне неряшливыми, автор будто маскирует свою беспомощность панибратством и бравадой: "Происхождение скифов неизвестно. Судя по греческим изображениям, это был народ иранского происхождения – неузкоглазый и сильно волосатый" (с. 41), "С наименованием нашей страны и ее титульного этноса все очень непросто" (с.121), "Печенежские нападения на русские земли поначалу были фрагментарны" (с. 212), "когда Святослав распределял земли между сыновьями и новгородцы попросили собственного князя, третий сын был предложен им не без смущения – как кандидат несколько подмоченный" (с. 230, кстати, слова о смущении – целиком на совести Акунина, в источниках об этом ничего не говорится).
Сумма неточностей в "Истории российского государства" превышает допустимую для научного или даже научно-популярного труда величину в десятки раз, превращая сочинение Акунина в своего рода кунсткамеру ошибок и заблуждений. Однако именно это обстоятельство и придает абсолютно бесполезной с научной точки зрения книге некоторую научную ценность: абсолютное уродство с познавательной точки зрения не менее интересно, чем абсолютная красота.
Наверное, профи может разделать под орех любой исторический опус любителя, но мне как-то кажется, что Акунин вызвал бы меньше насмешек, если бы назвал свою версию истории государства российского менее помпезно, что ли. Мне лично нравится живой разговорный язык в текстах об истории, но стиль таки должен соответствовать названию. Название классическое и строгое - таким должен быть и стиль.
 неравный брак
неравный бракчитать дальше
Что требуется: чтобы кислым не было, но было красным, с неповторимым ароматом именно красного вина. Такое вообще существует?


читать дальше

читать дальше

Кто бы еще сказал, почему у меня после очередного обновления дайри все слова появляются подчеркнутыми волнистой красной линией. Не то, чтобы мешало, но раздражает - при всей моей любви к красному цвету.
Даже если не принимать во внимание восхваления Томаса Мора в его адрес («честный человек, добрый рыцарь» и пр.), бросается в глаза, что врагов Гастингс действительно как-то и не нажил. Конечно, его не переносила королева – из ревности, и против него интриговала родня королевы (из солидарности), но это и всё. То ли Гастингс был сверходарённым дипломатом, то ли дело было в том, что именно через него шли все линии контактов к королевской особе. С таким человеком ссориться – себе дороже.
читать дальше
Не прошло и полугода... а точнее — не прошло и девяти месяцев (честное слово, именно столько)... как мы (кто именно — пока не скажем) задумали одну штуку. И вот теперь настал час.
Мы торжественно предлагаем вашему вниманию,
Итак, встречайте —
Перед вами первая полоса сего замечательного прожекта, а всего их будет шесть. Вострепещите и восхититесь!

Щелчок по картинке открывает газетную полосу целиком. Осторожно, она большая.
«Auctoritate vox — vox Dei»
читать дальше
«Короткой строкой»
читать дальше
«Мир вокруг нас»
читать дальше
Вторая полоса. Осторожно, картинка большая!
«На кончике пера»
читать дальше
«Криминальный Ноттингем»
читать дальше
Третья полоса. Осторожно, картинка большая!
«Наши финансы»
читать дальше
«Диалог с властью»
читать дальше
Четвертая полоса. Картинка большая!
«Домашние хлопоты»
читать дальше
«Здоровье»
читать дальше
Пятая полоса. Картинка большая, как всегда
«Герой нашего времени»
читать дальше
«Творческие фантазии»
читать дальше
И наконец — последняя, шестая полоса.
Картинка большая!
«Зов природы»
читать дальше
«Их разыскивает стража»
читать дальше
«Реклама»
читать дальше
Предупреждение
Выходные данные
читать дальше
О скором наступлении зимы говорит появление волшебного белого зайца. О магических свойствах белых зайцев сказано немало. Например, вот этот по имени Джерри отвечает за материальное благополучие. Тот, у кого он перезимует в тепле, весь год не будет ни в чем нуждаться. Материальное благополучие поселится у вас в доме вместе с Джерри. Заберите его к себе и увидите


И я хочу такого зайчика





 Иоланда в будущем
Иоланда в будущем Магдалена в будущем
Магдалена в будущем Мэри Гелдернская
Мэри Гелдернская отвергнутая Изабелла
отвергнутая Изабелла