 Жак Люксембургский
Жак Люксембургскийчитать дальше
 Жак Люксембургский
Жак Люксембургский

Идея явно не была взята из библейских источников, потому что по ним Анна и Иоахим отвели Марию в храм, когда той было всего три года. Тем не менее, алтарная картина в доминиканском приорате в Тетфорде, включающая сценки из жизни девы Марии, показывает св. Анну обучающей дочь читать – причём, на латыни. Скорее всего, заказчиком и патроном работ был Генри Ланкастерский, и дело было в 1335 году.
читать дальше
Тем не менее, мы не можем знать, являются ли изображения, о которых шла речь выше, отражением широко распространённой в жизни практики, или они были задуманы в качестве образца для подражания матерям, наставляя их на путь образованности, которую они должны были передавать своим детям. Возможно, они были и тем, и другим, представляя собой моральный идеал общества того времени. 
Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что ничто не появляется из пустоты. Если в истории сохранилось огромное количество документов, свидетельствующих о чрезвычайной образованности представительниц английской аристократии и джентри в эпоху уже ранних Тюдоров, то эта образованность просто не может не быть результатом ранее существующей, работающей, и хорошо развитой системы образования.
Можем ли мы сделать из всего этого вывод, что люди Средневековья вполне отдавали себе отчёт в том, что знание – это добродетель, и что невежественный человек не может соответствовать требованиям времени? Разумеется. И, хотя здесь идёт речь о представительницах «привилегированных классов», как говорится, для полноты картины нельзя не упомянуть о том, что работа по распространению грамотности среди населения велась на всех уровнях.
При всей неоднородности городского социума, и дети буржуа, и дети ремесленников в двенадцатом – четырнадцатом веках начинали своё образование одинаково, в элементарных школах, куда ходили и бедные, и богатые, и мальчики, и девочки. Некоторые получали это образование дома, у профессиональных учителей, но чаще всего, все-таки, в обычной школе, хотя бы и сопровождении наставника. Известно, что все программы элементарных школ были практически идентичными, обучение проводилось без разделения школьников, и женщины преподавали в этих школах наравне с мужчинами, что уже говорит о наличии хорошо образованной прослойке среди женского населения средневековой Англии.
Практика частных школ была введена во Фландрии и Италии только во второй четверти четырнадцатого века. Оттуда она распространилась по другим странам. Школы, таким образом, разделились на муниципальные и частные, и именно тогда начали раздаваться голоса о необходимости разделения детей.
О том, получали ли хоть какое-то формальное образование крестьянские девочки, не осталось никаких записей. Но здесь вопрос был не только и не столько в том, кого и чему учить, сколько в государственной политике. Потому что тенденция оттока образованного населения из села на работы в замки, в города и в бюрократический аппарат существовала уже в Средние века, а необходимость обеспечить сельское хозяйство достаточной рабочей силой была очевидной для всех.
В принципе, за образование на селе в первую очередь отвечали местные священники, но есть предположение, что крестьянам знания передавали нарративно, устно, как это было принято ещё в одиннадцатом веке во всех слоях населения. Во всяком случае, в крестьянских хозяйствах вообще не существовало никаких разделений обязанностей для детей на женские и мужские, и трудно предположить, чтобы девочки были исключены из существующей системы образования, в каком бы виде она ни существовала.
Но академическая грамотность – это всего лишь часть того, что мы называем образованностью. Для того, чтобы успешно занять место хозяйки замка или поместья, девушка должна была, как минимум, иметь практические навыки ведения обширного хозяйства, управления штатом, умения развлекать гостей и свою семью, а также уметь «поставить себя», что называется. Однобокость образования и тогда не считалась хорошим делом. Достаточно заглянуть в роман Хельдриса Корнуэльского «Тишина», чтобы понять, какие требования общество и обстоятельства уже того времени предъявляли к женщине, и насколько сложно было совместить одно с другим, чтобы получить удовлетворительный результат.

Роман был написан в тринадцатом столетии, и определить его по жанру можно как средневековое фэнтези. Это роман о девушке, которую родители вырастили, как юношу. Дело было в том, что в романе король запретил девушкам наследовать за родителями, поэтому история и закрутилась. Тишина, Сайленс - такое имя было дано девушке, которая, подрастая, думала отнюдь не о любви и замужестве, а о том, сможет ли она стать добрым рыцарем. И, если закон о наследовании будет изменён, и ей больше не придётся скрывать свой пол, сможет ли она быть хорошей женщиной, не умея ни шить, ни вышивать?
По литературным обычаям того времени, Обучение, в паре с Рассудком, и Природа ведут длительные дебаты, показывающие полный хаос в душе Сайленс. Она знает, что умение махать мечом – это, конечно, дело славное и нужное, но от того, что её воспитали мальчиком, её женская составляющая никуда не делась. Девушка подспудно понимает, что не сможет всю жизнь прожить в образе мужчины, что никакое состояние не стоит потери своего «я». И чётко осознаёт, что составляющие воспитания для её истинного «я» ей преподаны не были. Её научили стремиться к совершенству как рыцаря, и ей больно от того, что как женщина она от совершенства далека.
Чтобы разорвать порочный круг, Сайленс принимает радикальное решение. Она убегает с менестрелями, потому что менестрелем может быть и женщина, и мужчина. И потом одерживает всяческие победы, и как менестрель, и как рыцарь, и попадает, в конце концов, ко двору того самого короля, глупое распоряжение которого превратило её жизнь в постоянное сражение самой с собой. Под личиной славного рыцаря и искусного менестреля, Сайленс становится настолько популярной, что этого рыцаря (вернее, образа рыцаря) начинает добиваться королева Юфимия, которая, в конце концов, лживо обвиняет всеобщего любимца в изнасиловании.
Поскольку Сайленс не может рассказать, что она никак не могла изнасиловать даму, ей приходится принять наказание: отправиться на поиски Мерлина, которого, как известно, могла поймать и пленить только женщина. И, разумеется, Сайленс Мерлина поймала, но он всем открыл, что храбрый рыцарь – это, на самом деле, храбрая девица, а вот королева Юфимия водит шашни с мужчиной, который притворяется монахиней. Так что король, в конце концов, не просто отменил свой несправедливый закон, но и женился на Сайленс.
Это, возможно, и есть то самое, для чего написан весь роман: король, имея в жёнах склочную, лживую и порочную женщину, потерял уважение к женщинам вообще, и поэтому запретил наследницам наследовать за родителями (хотя в романе явной причиной выводится смертельный поединок между двумя рыцарями за руку наследницы). Встретив создание талантливое, чистое и благородное, он отменил несправедливый закон. Заметьте посыл: поведение твоего мужа отражает твоё совершенство или отсутствие такового.
Так что да, для того, чтобы с достоинством зваться дамой, средневековая девочка из аристократической семьи должна была пройти такую школу, перед которой трудности современных бизнес-вумен как-то меркнут. А может быть, и не меркнут. И в наше время социально успешные женщины являются объектом наветов и сплетен. Женщин, преуспевших в карьере, небрежно обвиняют в том, что они не умеют шить и вышивать. Женщин, отличившихся на войне, с гнусной ухмылкой обвиняют в распущенности. И в наше время женщина разрывается между семейными, профессиональными и социальными требованиями, и ни на минуту не может достичь того идеала, который устанавливает масс-медия, всё время поднимающая планку. Нельзя даже сказать, что в наше время над женщиной хотя бы не висит опасность в любой момент оказаться вовлечённой в локальную войну. Висит, к сожалению. Разве что наше образование меньше подготавливает нас к сюрпризам реальной жизни, а Мерлин, который мог бы всё расставить на свои места, похоже, наглухо забаррикадировался в своей пещере






Хотела разместить здесь полностью разбор акунинского опуса, но текст большой, и из-под "моря" вываливается. Так что вот вам цитаты, а весь разбор заслуживает внимания: http://www.russ.ru/pole/Bol-she-chem-istorik.
Хотя, положа руку на сердце, могу сказать, что большая часть современных опусов тех же англичан по английской истории тоже не выдержали бы критики профессионалов, если даже такой дилетант, как я, видит явные огрехи. Видно, тренд такой нынче пошел, писать немного свои версии истории.
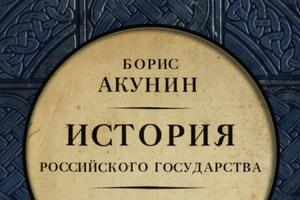
"Не все русославянские колена обитали в лесах, – пишет Акунин чуть дальше, – но все без исключения жили вдоль рек" (с. 24). Эта собственная фраза так увлекла автора, что он мигом вывел из нее теорию перехода славян от "наполовину степного" народа к лесному (с. 23 - 28). Этим переходом Акунин объясняет и особенности национального характера русских ("в том, что мы такие нелегкие, очевидно, виноват все-таки Лес" (с. 28)) и характер взаимоотношений восточнославянских племен с финно-угорскими аборигенами. По его словам, "в отличие от славян, финны не занимались ни земледелием, ни скотоводством", а потому запросто уступали славянам реки, уходя в леса. "Реки финнам были ни к чему, – рассуждает Акунин, – торговли они все равно не вели – не имели излишков... Финнов лес кормил недостаточно сытно, чтобы развивалась культура, но и не настолько впроголодь, чтобы побуждать к уходу с насиженных мест" (с. 32).
читать дальше
Сколь бы странным это ни показалось, но Акунина, выпускника историко-филологического отделения Института стран Азии и Африки, постоянно подводит нехватка общей гуманитарной эрудиции. Так, например, он пишет: "Известно, что быстрее всего развивались народы, которых природа либо щедро облагодетельствовала, либо обделила своими дарами и заставила активно бороться за выживание. На первом этапе истории преимущество получили жители плодородных земель Междуречья и Нила, Эллады и Апеннинского полуострова; на следующем – те племена, кого нужда гнала с насиженных мест" (с. 34).
Не говоря о том, что эта теория Акунина противоречит его же взглядам на зловещую роль леса в истории русского народа и его финно-угорских соседей, отмечу ошибку, которая легко могла бы испортить оценку студенту-историку на экзамене: дело в том, что Греция никогда не была плодородной, и даже в период своего расцвета была вынуждена импортировать зерно.
А уж после утверждения, что "в Европе с античных времен... сложилось стойкое представление о том, что интересы индивидуума являются высшей ценностью; они важнее интересов социума" (с. 508), несчастного студента могли отправить на пересдачу, потому что рассуждать об античности, не имея понятия о роли гражданской общины в жизни грека или римлянина, нельзя.
Акунин старается доказать, что Юрий Долгорукий "не отличался государственной мудростью и полководческими талантами", а его роль в русской истории сильно преувеличена (с. 408, 410). В частности, Акунин сообщает как увлекательную новость, что имя Долгорукого "прославлено в истории и известно всякому современному россиянину благодаря событию, которого, собственно, не было" (с. 408). Посмотрев в школьные учебники, Акунин мог бы убедиться, что современный россиянин и без него знает, что Москва не была основана Долгоруким, а всего лишь была впервые упомянута в контексте его княжения. А ознакомившись с проблемой чуть более подробно, наш автор узнал бы, что связь Долгорукого с градостроительством в нашей историографии не случайна.
Однако Акунин не только не знает советской историографии, но и очень плохо знаком с работами тех немногих дореволюционных авторов, на которых он активно ссылается. Так, по словам Акунина, автор "Повести временных лет" (стойкая убежденность Акунина в том, что ПВЛ – произведение одного автора, не может не вызывать уважения) "запутался в византийской хронологии", отнеся воцарение Михаила III к 6360 (852) году, тогда как Михаил стал базилевсом "не с 852 года, а с 842-го". Дальше, продолжает Акунин, "путаница лишь усугубляется" (с. 125). На самом деле, еще со времен академика А.А.Шахматова известно, что русский летописец не запутался, а стал жертвой путаницы, возникшей в использованном им при работе хронологическом своде, известном как "летописец вскоре патриарха Никифора". Более того, он не "усугубил" путаницу, как почему-то считает Акунин, а наоборот уменьшил ее....
Акунин пишет, что киевский летописец "благочестиво радуется поражению "безъбожных руси"" в походе на Константинополь в 860 году (с. 119). На самом деле летописец ничему не радуется, а просто заимствует описание похода на Царьград из славянского перевода византийской хроники продолжателя Георгия Амартола. Но стоит ли обращать внимание на такие мелочи, если Акунин допускает, что автором приписываемого византийскому императору Маврикию "Стратегикона" может быть и его безымянный "историограф" (sic, с. 68), а хрестоматийного для русской истории автора "De origine actibusque Getarum" Иордана называет Иорданесом, причем дважды (с. 67, 103)!
В одном случае путаница с согласованием времен привела Акунина к неверному, но очень интересному утверждению, за которое я, пожалуй, даже сказал бы автору спасибо. Акунин утверждает, что Чингисхан мечтал о великой державе, где "девушка с золотым блюдом в руках сможет пройти от океана до океана, не опасаясь ни за золото, ни за свою честь" (с. 38).
Разумеется, ничего подобного Чингисхан не говорил... этот самый распространенный в современном русском узусе вариант данной "цитаты" появился на так давно, после того как был использован в рекламе выпущенной в 2007 году компьютерной игры "Монгол: Война Чингисхана", и сразу же наводнил Рунет. Фраза эта восходит к двум прототипам: в одном те же слова даются без привязки к Чингисхану, в другом из них речь идет о Чингисхане, однако в тексте уже не говорится о смелых девушках, не опасающихся ни за блюдо, ни за честь.
Нельзя не остановиться и на стилистических особенностях акунинского текста. Российский литератор, обращаясь к истории, берет на себя большую ответственность: ему волей-неволей приходится соизмерять себя с Карамзиным, Пушкиным, Львом Толстым или, например, А.К.Толстым, который умел в нескольких строфах выразить характерные особенности истории от Рюрика до наших дней. На этом фоне суждения Акунина выглядят крайне неряшливыми, автор будто маскирует свою беспомощность панибратством и бравадой: "Происхождение скифов неизвестно. Судя по греческим изображениям, это был народ иранского происхождения – неузкоглазый и сильно волосатый" (с. 41), "С наименованием нашей страны и ее титульного этноса все очень непросто" (с.121), "Печенежские нападения на русские земли поначалу были фрагментарны" (с. 212), "когда Святослав распределял земли между сыновьями и новгородцы попросили собственного князя, третий сын был предложен им не без смущения – как кандидат несколько подмоченный" (с. 230, кстати, слова о смущении – целиком на совести Акунина, в источниках об этом ничего не говорится).
Сумма неточностей в "Истории российского государства" превышает допустимую для научного или даже научно-популярного труда величину в десятки раз, превращая сочинение Акунина в своего рода кунсткамеру ошибок и заблуждений. Однако именно это обстоятельство и придает абсолютно бесполезной с научной точки зрения книге некоторую научную ценность: абсолютное уродство с познавательной точки зрения не менее интересно, чем абсолютная красота.
Наверное, профи может разделать под орех любой исторический опус любителя, но мне как-то кажется, что Акунин вызвал бы меньше насмешек, если бы назвал свою версию истории государства российского менее помпезно, что ли. Мне лично нравится живой разговорный язык в текстах об истории, но стиль таки должен соответствовать названию. Название классическое и строгое - таким должен быть и стиль.
 неравный брак
неравный брак

